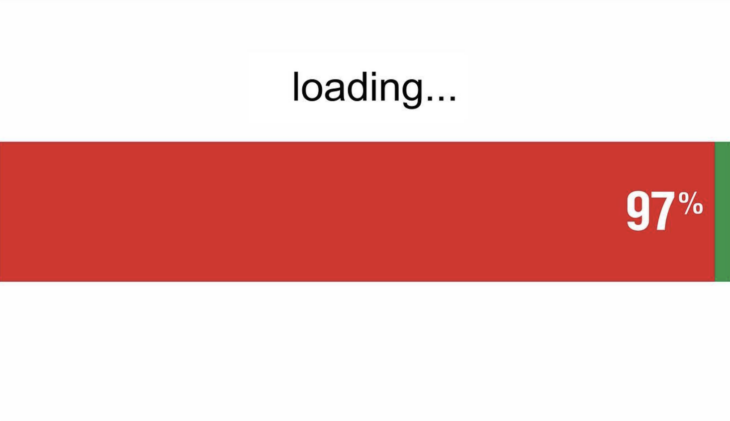
Приглашаем вас на виртуальную выставку Белорусское искусство протеста, подготовленную к 9 Форуму свободной России
Форум свободной России (ФСР) был создан группой политиков, учёных, журналистов, деятелей культуры для того, чтобы объединить российских сторонников европейских демократических ценностей, где бы они ни жили — на родине или за рубежом.
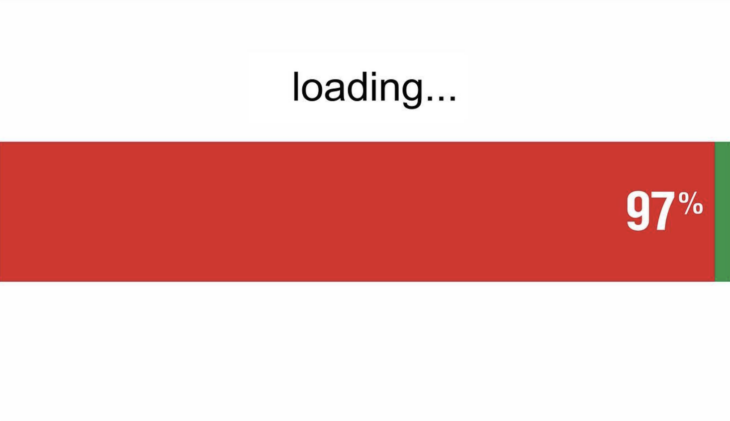
Приглашаем вас на виртуальную выставку Белорусское искусство протеста, подготовленную к 9 Форуму свободной России